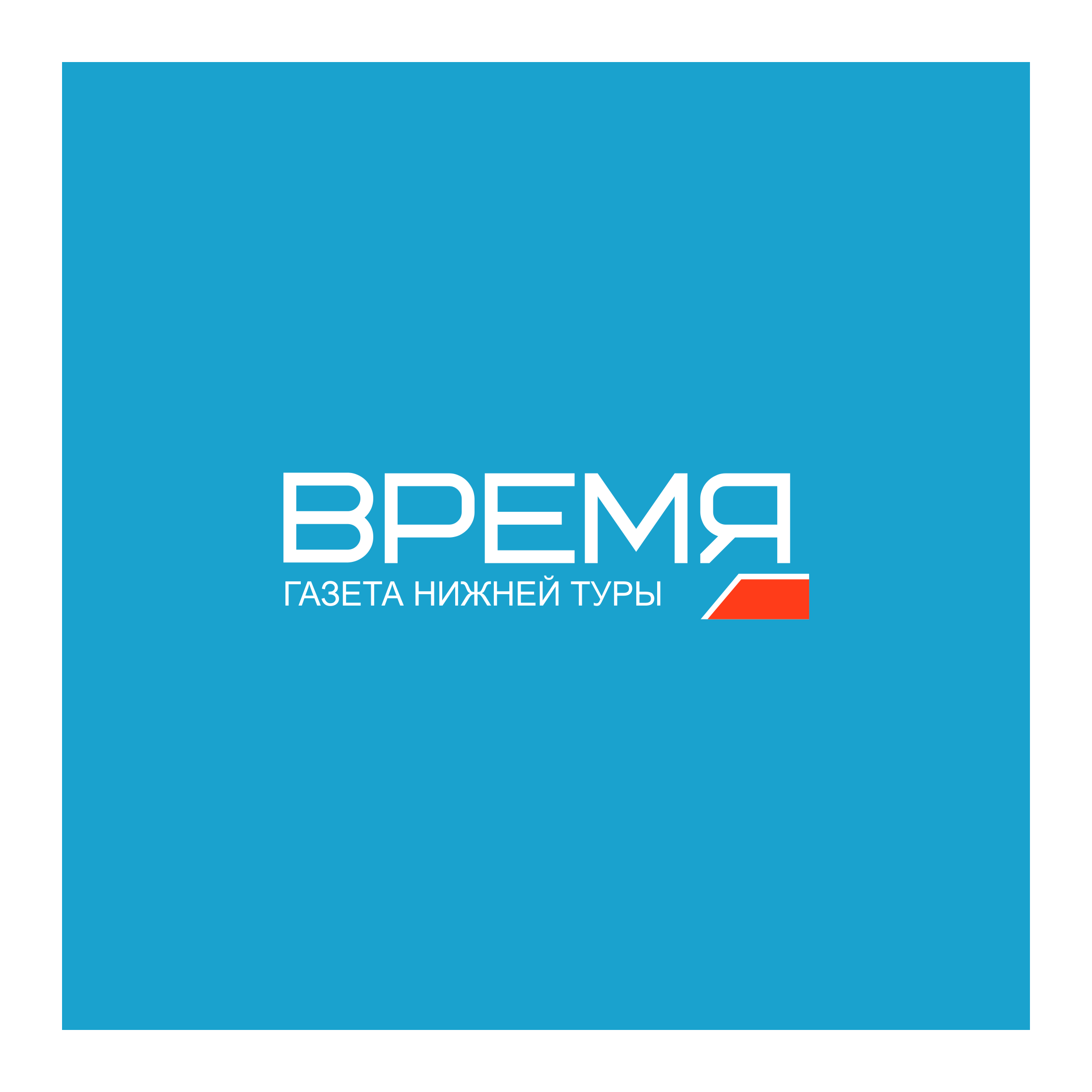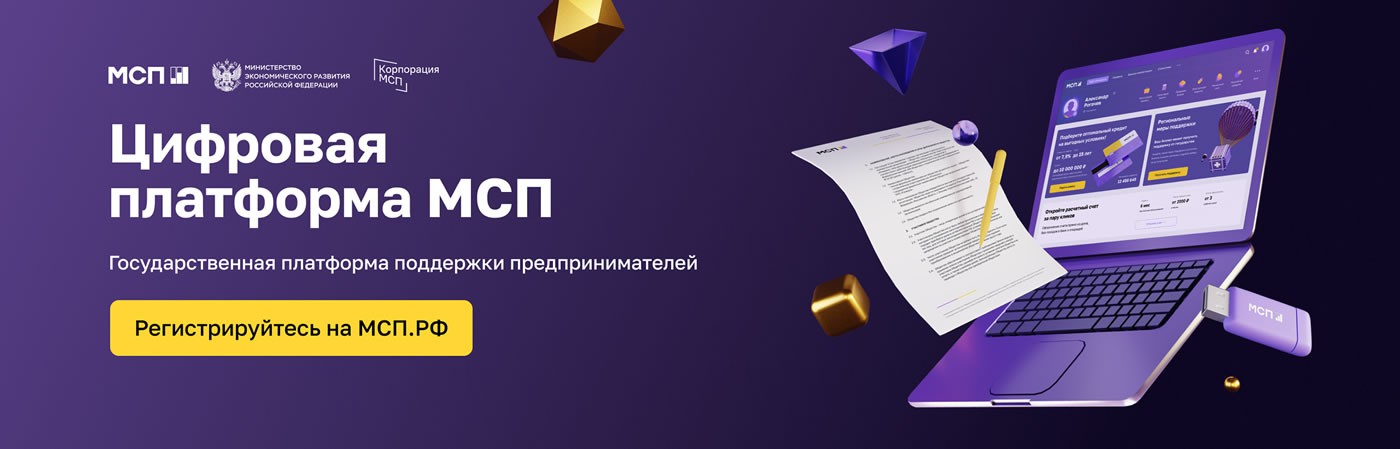- Этот новенький снова приходил, пока я к блиндажам бегала. Старшина шутит: «Что-то тут нечисто, Тань! А? Как затишье, так он тут. Да со цвета-а-а-ми…». Его прислали к нам в 44-м, когда наш стрелковый полк стоял в обороне под Витебском. Кадровый офицер. Старший лейтенант. Награды на гимнастерке позвякивают (ну, да и мы не лыком шиты!).
Назначили командиром роты связи. Нет, чтобы радистами своими заниматься, так он к санинструктору привязался! Только и тряслась: хоть бы командир не увидел его физиономии влюбленной да как ко мне в медсанбат без конца бегает — стыдоба-то какая…
Ну, вот те, нате. Здрасте! Опять пришел. Ландыши в руках теребит. Гляди-ко, настоящие. А крупные какие! «Люблю тебя, — говорит, — жить не могу без тебя, Таня!».
Ну какая любовь, Господи ты, Боже мой! Ну какая любовь в этой грязи, в этом поту и непосильной работе этой! Только что бой кончился. Своих ещё, не знаю — всех ли, откопала, всех ли к медпалатке притащила. Ноги в кровь стерты, голова две недели не мыта, сил — только привалиться вон к березе, забыться на миг-другой… Ну какая любовь?
Послала, в общем, парня по матушке. Да крепко так, по-фронтовому. Ну дак, если не понимает — какие тут реверансы! «Кончится, — говорю, — война, тогда и приходи со своими ландышами!».
Но он все ходил и ходил — меж боями, в короткие передышки, вытирая с её почерневшего лица слезы и сопли пополам с землей, подставляя в трудную минуту свое верное плечо, радуя хоть малым, хоть просто парой сухариков или кусочком сахара с прилипшими к нему крошками махорки. Ну и, конечно, где только мог — доставал цветы. Полевые, не ахти какие шикарные. Но какими же они родными и незабываемыми становились! Однажды спас ей жизнь.
Было это в августе сорок пятого, на Забайкальском уже фронте, в песках монгольской пустыни Гоби, которую преодолевали наши войска на пути к Большому Хингану. Шли к Японской границе в тяжелейших условиях: палящее солнце, безжизненная пустыня, полное отсутствие воды… Люди буквально валились с ног. Иные солдаты, обессилев, падали и уже не вставали. Воды! Ну, хоть немного воды! «В первую очередь напоила бы раненых. Самой бы — хоть глоток…», — думалось в горячечном бреду. И вдруг ей, старшине медицинской службы Антонине Порхаевой, в мутном, пыльном мареве показался водоем. Люди черпают воду ведрами и загружают её в бочки, установленные на повозках. Все так явно и красочно… (В пустыне миражи, фантомы часто посещают обессилевших путников). Она взяла фляжки и пошла. А как же? Раненые ведь не дотянут…
Нашел её Володя Анощенко. Не иначе, влюбленное сердце подсказало, где искать. Умирающую, он перекинул её через седло и на лошади успел довезти до спасительного водоема (в противоположной от её маршрута стороне). Антонину Георгиевну и сейчас передергивает от воспоминания, какой мерзкой на вкус и цвет была та спасительная для всех вода. Но она пила и не могла напиться…
Кстати сказать, этим спасением поквитались фронтовые товарищи Тоня с Володей по-доброму: Тоня ведь тоже спасла Анощенко в бою под Кенигсбергом, вытащила его, раненого, с поля боя.
— Да что там говорить, тогда ещё, наверное, Бог нас повенчал, хоть я ещё долгое время стойко ждала Победы, настоящего и полного окончания войны. Боялась за свое хрупкое счастье…
Хотелось знать, что оба они в первую очередь останутся живы. А уж потом будут счастливы.
Когда кончилась Отечественная война с фашистской Германией и долгожданная Победа ликованием заполнила сердца, когда их дивизия вступила в город русской славы Порт-Артур, когда Япония подписала акт о безоговорочной капитуляции (а было это 3 сентября 1945 года, и это была ещё одна Победа!), когда Анощенко уже просто объявил Антонине ультиматум, вот тогда и она подписала свой «акт о капитуляции» — дала согласие стать его женой. В декабре 45-го Генеральный консул СССР в Порт-Артуре Петров расписал супружескую пару и поздравил с законным браком.
Они прожили вместе более полувека. Бок о бок пройдя фронтами от Москвы до Кенигсберга, от берегов Балтики до Тихого океана, освобождая Сталинград и Смоленск, Рудню и Оршу, украинские, белорусские, литовские города, они закалились и сплотились на всю свою оставшуюся жизнь. И одни города у них были на двоих, и почти одни награды. И даже сами они были чем-то похожи друг на друга — так бывает, когда люди сливаются в одно целое и не мыслят существования друг без друга.
Владимира, правда, судьба пощадила меньше: четыре ранения, два из которых — особенно тяжелые. Они-то и укоротили век фронтовика, всеми уважаемого человека, отдавшего после войны сорок лет приисковому делу — добыче платины, единогласно и на многие годы избранного председателем Совета ветеранов Великой Отечественной войны Нижней Туры и прилегающих поселков. Человека, военную и трудовую биографию которого надо бы писать золотыми буквами в книге истории государства. Как, впрочем, и биографию Антонины Георгиевны, трудовой век которой сравнялся с веком мужа.
Умер Владимир Иванович, когда ему стукнуло восемьдесят, ещё в 1995-м. Он исполнил свой долг на земле. Сначала он эту землю защитил, очистил от врага, потом построил на ней дом, привел туда жену, вырастил сад, воспитал троих детей, завел массу друзей. Он помнил о погибших товарищах, помогал живым, много трудился на уральских приисках, преумножая славу своей Родины, успел вынянчить внуков, порадоваться правнукам. И чистый его образ до сих пор не истаял в душе Антонины Георгиевны.
— Милый мой, любимый мой Володя! Счастье всей моей жизни! Ох, как не хватает мне его цветов! Так все годы и баловал. Знал, что люблю. И не ведаю даже, как скриплю без него. Хорохорюсь, конечно. Но это так, на людях. А как останусь одна… Душа рвется на части. До сих пор корю себя за то, что обругала его тогда, в сорок четвертом, прогнала его вместе с признаниями. Стоит, помню, ошарашенный, моргает. «Тань, ну ты чего такая неприступная?».
Таня… Меня ребята на фронте звали почему-то не Тоней, а Таней. Я и не возражала. Злилась, правда, когда котом в сапогах дразнили — нога-то37-го размера, а сапоги выдают сорокового. Сколько портянок не накручивай, размер все равно не уменьшишь. Только он заступался: «Одна ведь она у нас, мужики! Помягче бы надо…».
До войны она мечтала стать артисткой. Занималась гимнастикой в группе цирковых артистов Шуйдиных (впоследствии работавших вместе с Никулиным). У нее неплохо получалось, и ей пророчили перспективное будущее на сцене. Но война внесла свои коррективы, жестко зачеркнув перспективы. В июне сорок первого, как и тысячи других жителей Подмосковья, её мобилизовали на строительство оборонительных сооружений.
Не девичья это работа — огромной совковой лопатой копать вручную противотанковые рвы и солдатские окопы, катать тяжелую тачку с землей, не разгибаясь, порой по 10–12 часов кряду. Но враг рвался к Москве, и каждый понимал, что пускать его в столицу нельзя!
Весной сорок второго года она окончила курсы санитарных инструкторов и, добавив в документах себе год (Тоне было тогда шестнадцать), пошла проситься на фронт. Её взяли в медико-санитарный батальон. Какое-то время она сопровождала раненых из прифронтового медсанбата до ближайших армейских госпиталей, оказывая посильную медицинскую да и человеческую помощь — помыть раненого, письмо домой написать и просто успокоить. Разбитые дороги, постоянные налеты немецких бомбардировщиков. Но раненых надо довезти до госпиталя живыми. Во что бы то ни стало! И она довозила. Иному взрослому не все так удавалось, как ей, молоденькой девчонке. Упорство было какое-то не девичье.
В сорок третьем, в самый канун наступления наших войск на Смоленск, её переводят санинструктором в 1134 стрелковый полк. Тоня идет за боевыми порядками своей пехоты, оказывая срочную медицинскую помощь, перетаскивая раненых бойцов на плащ-палатке с поля боя в укрытие. Свистят пули, рвутся вражеские снаряды и мины, заставляя сердце сжиматься в комок, плотнее прижиматься к земле и в ужасе думать, что вот сейчас придет и твой черед быть убитой или раненой… Но вновь слышен крик о помощи, и маленький мужественный санинструктор ползет туда, где нужны его руки, его сноровка, его бинты и его откуда-то взявшаяся в эти минуты недюжинная сила. Туда, где он, быть может, ещё спасет чью-то жизнь.
В этих боях Антонина вынесла с полей сражений 32 бойца, за что была награждена солдатским орденом — медалью «За отвагу».
— Только бы прекратился дождь. Как же тяжко волоком по грязи тащить человека. Раненые — они почему-то намного тяжелее. Хотя некоторые, у кого ещё есть какие-то силенки, стараются помочь — или руками за траву цепляются, или уцелевшей ногой отталкиваются. Бедненькие, как же их всех жалко! Этого, может, ещё и дотащу. А тех двоих… Может, хоть перевязать до мессершмидтов успею — вон они чернеют уже за лесом, твари поганые. Сейчас снарядами забросают. Небо завоет и как будто исчезнет сразу. А вместе с ним — и душа в пятки опустится. Страшно, просто ужас! До чего же под обстрелом страшно!
Навсегда запомнились ей кровопролитные бои за освобождение Белоруссии и Литвы, длительные марши и кратковременные остановки для отдыха и получения пополнения.
Казалось, прошлого и не было вовсе. Не играл в парке оркестр и не танцевали они, молоденькие девчонки в легких платьицах, под звуки мирного вальса. Вот она — землянка. Коптилкой служит снарядная гильза, а подушкой — скатка из армейской шинели. А утром снова повесишь на плечо тяжеленную санитарную сумку — и вперед. Дождь ли, холод ли. А уж обстрел — как и положено на войне.
В начале апреля сорок пятого взяли оплот прусской военщины — Кенигсберг. За мужество и отвагу при спасении раненых воинов Антонину Георгиевну наградили орденом Красной Звезды.
Однажды в Восточной Пруссии санинструктор Порхаева случайно оказалась в эпицентре боя, который завязал артиллерийский дивизион соседней части с появившимися неожиданно немецкими танками и пехотой. Тоня не растерялась и не бросилась искать укрытие в своей части, а стала вытаскивать с огневых позиций раненых. Молотило так, что, наверное, в аду потише будет. Там-то её и контузило, привалило землей после взрыва. Откопали бездыханную. Месяц отлеживалась в госпитале. Заново училась ходить, говорить.
Но то, как она уверенно и смело действовала тогда на поле боя, видел приехавший на позиции член военного совета армии генерал Бойко. Он тут же велел адъютанту взять данные старшины медслужбы для представления её к Ордену Красного Знамени. Об этом знали в штабе. Сказали и Тоне. Но награда так до сих и не нашла героя. Бывает и такое.
Однако Антонина Георгиевна не горюет по этому поводу. Она, вообще, за себя стоять не любит. Когда уж совсем замучила гипертония, стало сильно сдавать сердце, решила она оформить инвалидность. Нижнетуринские медики сказали: «Военная контузия — не повод для оформления инвалидности. Это же не ранение». Она и отступилась. Но муж тогда настоял на том, чтобы довести дело до конца. И довели.
Поехали в областной госпиталь. Председателем комиссии был Семен Исаакович Спектор.
Он открыл мою карточку, перелистал личное дело. «А где, — спрашивает, — наградной лист?».
— Там, — говорю, — в конце подшит. Он перелистнул дальше… И вдруг встает резко так, подходит ко мне, крепко обнимает и говорит:
— Да моя ты хорошая! Солдатик ты мой дорогой! Это ж надо — и Красная звезда, и Отечественная война, и «За отвагу!», и медалей за взятые города — вся география страны! Спасибо тебе, родная! Низкий тебе поклон!