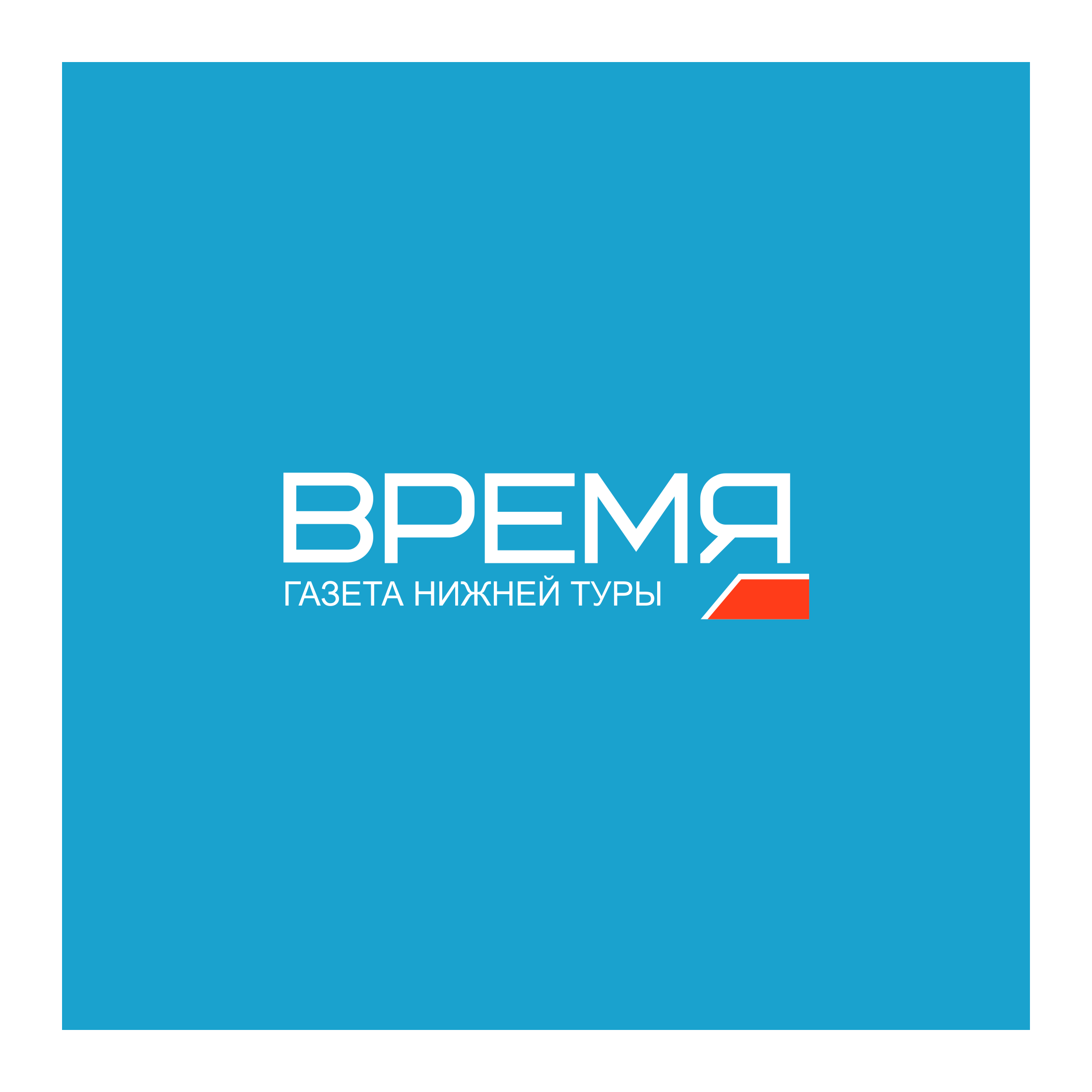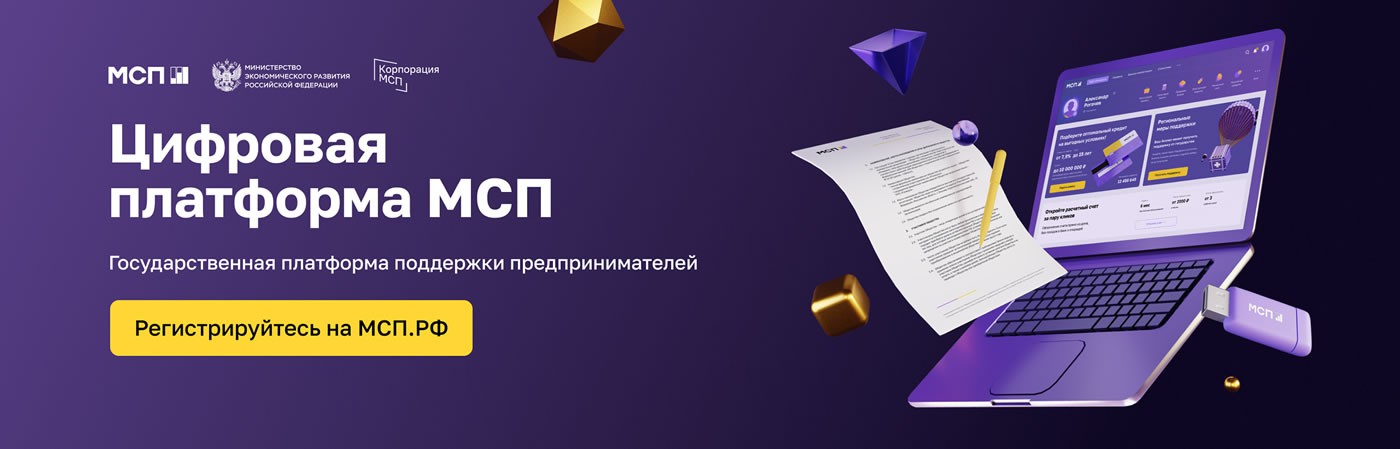Эта история более чем грустная. Она хоть и короткая, но о долгой и достойной, тяжелой и пронзительно светлой жизни — такой, какую умеют прожить лишь фронтовики. Только им, наверное, дано вот так воспаряться над всем сущим, каждодневным, обыденным. И только они могут не придавать значения перипетиям бытия, помня всегда и заботясь о самом главном в этом мире — о своих родных и близких, своем родном городе, а стало быть — о своей Родине.
Нынешней весной, когда Великой Победе исполнится шестьдесят пять, ей, Алевтине Константиновне Секретовой, стукнет восемьдесят шесть. Она сейчас очень слаба и больна. И, наверное, давно бы уж померла с тоски и несправедливости, какую преподнесла ей жизнь. Да, повезло пожилой женщине: есть у нее племянник (Игорь), жена его (Вера) и вся их милая, добрая семья, приютившая здесь, на Урале, коренную ленинградку, выдавленную, можно сказать, из родного города, из собственной маленькой комнатушки в коммуналке, злыми людьми.
Но об этом позже. Сейчас о том, о чем она не забывает даже в самом тяжелом состоянии здоровья, помнит и в горе, и в радости — о блокаде. Даже два года, проведенные на фронте, в зенитном полку, в бесконечных ночных дежурствах в ленинградском небе, под обстрелом, в холоде и страхе, не оставили в ее сознании такого глубокого, такого незабываемого следа, как годы блокады. К ней и сейчас постоянно приходят те страшные картины, будоражат ее выболевший мозг, затмевают сознание. Как же жутко было! Как неописуемо страшно.
Их было до войны четверо женщин семьи Секретовых: она, Аля, ее мама, бабушка да сестра Зоя. Отец умер еще в сороковом. Но жили, хоть и без главного кормильца, не так уж и бедно — мама и Алевтина работали, а бабушка каким-то непостижимым образом так справно вела хозяйство, что им вполне хватало на все. Мечтали об институтах, хотели замуж, детей растить, работать, гулять по любимому городу и впитывать его красоту. И в их большой трехкомнатной квартире на Васильевском часто раздавался веселый, беззаботный смех. Война перечеркнула все. И мечты, и веселые посиделки за чаем. И судьбы. Все. Немцы подступили к городу вплотную. Очень быстро в Ленинграде стало «таять» продовольствие, ведь пути доставки к городу продуктов были перекрыты. Он словно сжимался весь, как шагреневая кожа, и худел, худел, будто голодающий человек. Да на улицах все чаще можно было встретить до предела изможденных людей. Карточки на заводе Калинина, где работала Аля, тоже «худели». Сначала кормильцу (работающему) давали пайку в 500 граммов хлеба (о других продуктах и не вспоминали!), а иждивенцу — 300. Настало время, когда работающий стал приносить домой суточную пайку в 350 граммов, иждивенцу полагалось 250. Обстановка накалялась. Но город молча нес свой крест. И только Ладога, замерзая, могла подарить на время «дорогу жизни», по которой шли в Ленинград под обстрелом врага караваны с продовольствием. Но это было только зимой. Сейчас, когда видишь в музее засохшие, уменьшившиеся до размеров спичечного коробка, хлебные пайки (да, какие там хлебные! Опилки пополам с картофельными очистками да клеем столярным!), разбирает ужас. И не верится, что люди могли выживать на таких крохах.
Первой не выдержала Зоя. Она пошла и записалась добровольцем на фронт, прибавив себе года. Воевала на Ленинградском фронте, дошла до Прибалтики. Там ранили. Отлежалась в госпитале. И снова на фронт. А Аля… Она не сумела тогда оставить бабушку и больную мать (хоть уйти вместе с сестрой было сподручнее и не так страшно). Ведь она одна могла им помочь: хлебная спасительная пайка заводской табельщицы делилась на всех. Но все равно, как же этого было мало! Только перед самой своей смертью мама сказала ей, что бабушка, как увидела, что начала уже пухнуть от голода, стала незаметно подсовывать свою пайку дочери… Не спасло. Аля похоронила их вместе — одна умерла следом за другой. Могильщики четыре дня не шли. Потом пришли и забрали обеих. Лежат они на Пескаревке, в одной громадной братской могиле под названием «мартовская». К концу лютой зимы 43-го покойников, большей частью неопознанных, накопилось в городе так много, что их хоронили в больших братских могилах. И называли эти могилы по месяцам захоронения…
Еще какое-то время Аля проработала на заводе. Домой, правда, из цеха уже не уходила, ночевала прямо там, в дежурке. Не к кому было идти, да и сорок минут пешего пути выматывали не на шутку. Так хоть останется в цехе, отдохнет малость — и за работу. В сон от голода и усталости не клонило, силы какие-никакие можно было сберечь.
На фронт, в седьмую батарею третьего зенитно-воздушного дивизиона, она записалась в июле 43-го. А через шесть месяцев наши войска прорвали блокаду Ленинграда. Что же это была за радость, Господи! Прямо непередаваемое какое-то счастье! Особенно для них, коренных ленинградцев, любящих свой город, как родного человека. Девчонки-зенитчицы плакали от радости весь день. Только высохнут слезы — опять, глядишь, льются ручьем. А сердечки буквально выскакивали из груди. Ленинград! Выстоял родной! Не сдался! Ценой каких страшных потерь выстоял.
Вернулись сестры с фронта, а их квартиру занял номенклатурный работник с семьей. Жить негде. По инстанциям ходить не обучены. Да и скромняги обе. Вон другие вообще без рук, без ног домой воротились. И тоже жилья никакого. Им-то куда труднее. А сколько в земле сырой лежит. Мы-то живы — и ладно. Как-нибудь потерпим.
Помотались сперва по чужим квартирам, на подселении, а потом Зою тетка к себе забрала — Зоя замуж вышла, вот тетка и пожалела молодоженов. Аля же надумала пойти в проводники. А что: меняешь маршрут на маршрут, смену на смену — и никакой квартиры не надо. Поезд тебе и дом родной, и Отчизна. Тем более что уж Отчизну-то свою всю вдоль и поперек объездила. Вдоволь всего навидалась.
Однако Ленинград (считает) лучшее, что в жизни ее было. Это он — и семья ее, и любовь, и дом. Ведь это коренные ленинградцы, истощенные блокадой, да хилые, а еще пришедшие с боев фронтовики, многие — после ранений, спасли в сорок четвертом город от эпидемии. Каждый вечер, после рабочих смен и учебы, они выходили на добровольные работы и очищали город от всех ужасов блокады — трупов, грязи, мусора. Люди мыли с хлоркой трамвайные колеи и до последней травинки чистили скверы, парки. Восстанавливали разрушенные здания, любовно возвращали к жизни памятники истории и культуры России. Почти до конца 47-го года город жил без выходных — люди превратили их в субботники.
Она так и говорит все время: «Ленинград». Вера Викторовна Еремина, жена племянника Игоря, у которых Алевтина Константиновна сейчас живет, подтверждает мое наблюдение: «Да, Санкт-Петербургом никогда свой Ленинград тетя Аля не называла. Не понимает, зачем его переименовали? И не принимает».
А из комнаты в двенадцать с половиной метров в коммуналке, которую ей все же в шестидесятом году дали, на старости лет ее выгнали проворные молодые соседи. (Ленинградцы, как оказалось, разными бывают. Хотя, правда, часть этой семьи — приезжая). Сначала проведенный ей, ветерану войны, телефон себе перевели, потом вещи из ванной и кухни перетащили к ней в комнатушку и кинули, даже полку на кухне со стены сняли. Зажилась, мол, старуха. Давай, катись отсюда. Так ей горько и одиноко стало. Так плохо. Постоять за себя она никогда не умела. Вот и забрали ее к себе Еремины, видели, что не удержаться ей под таким напором. И хоть комната приватизирована, хоть завещана любимой внучке, вряд ли станут деликатные Еремины убиваться за нее. Хотя не мешало бы проучить негодяев. И справедливости ради, и ради тети Али, так много помогавшей в свое время родственникам с Урала-токонфеток-печеньиц ленинградских пришлет, то девчонок на летние каникулы к себе заберет, да что там — всем гуртом к ней в эту комнатушку в гости ездили столько лет подряд.
Тете Але в семье Ереминых хорошо. К ней великолепно относятся, очень любят ее и глубоко уважают. Эта семья, надо сказать, фронтовиками не была обделена: мать Игоря Зоя Константиновна, отец Александр Алексеевич, отец Веры Виктор Николаевич — все воевали, у всех высокие правительственные награды. Да всех уж, правда, нет в живых. Но наследие свое эти святые люди в семье оставили. И крепкое наследие. Хорошее…
— А еще спокойно ей здесь, — говорит Вера Викторовна. — Роднее-то никого у нее больше нет. Правда, хуже и хуже у нее здоровье становится. Такую жизнь прожить — не мудрено. И, знаете, что примечательно? Наша тетя Аля — великолепный рассказчик. Столько она в жизни повидала, так умеет преподать любую историю, а как о Ленинграде своем любимом много знает и нам рассказывала! Как награды свои боевые получила, об однополчанах, о жизни после войны. Но все это было в прошлом. Сейчас и давление бешеное, и слух потеряла, людей стесняться стала, да и настрой у нее совсем уже не тот. Но въелось в ее жизнь, в ее сознание навсегда одно: чувство страха перед голодом. Оно до сих пор в ней сильно. И не оставит, наверное, никогда. Она не может видеть заканчивающиеся в семье продукты. Скажу: «Тетя Аля, да в магазинах всего полно, куплю». Но она не успокоится, пока не увидит, что я пополнила запасы. При ней нельзя выбрасывать продукты — буквально заболевает от этого. А поздно вечером она прокрадывается на кухню и берет себе в постель маленький кусочек хлеба. «Без корочки хлебушка, — говорит, — не усну. Лежит она со мной рядышком — и мне спокойно». Слышу ее легкие шаги, комок жалости подступает к горлу, и всякий раз думаю: «Господи! Не приведи пережить то же, что она! Ни нам, ни нашим детям, ни внукам, ни правнукам!».
Мне же вспомнилось, как я спросила с помощью Веры Викторовны Алевтину Константиновну:
— Вы говорите, ваша батарея в сорок третьем стояла в Смольном, домой не отпускали — жили там, при воинской части. А как кормили вас?
И она, как-то так (утвердительно, что ли?) встрепенулась, живо блеснула глазами и четко сказала: «Каждый день».