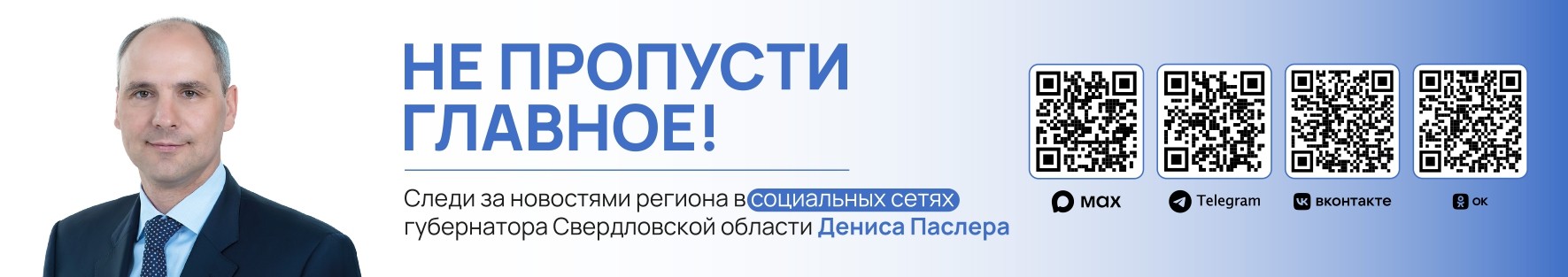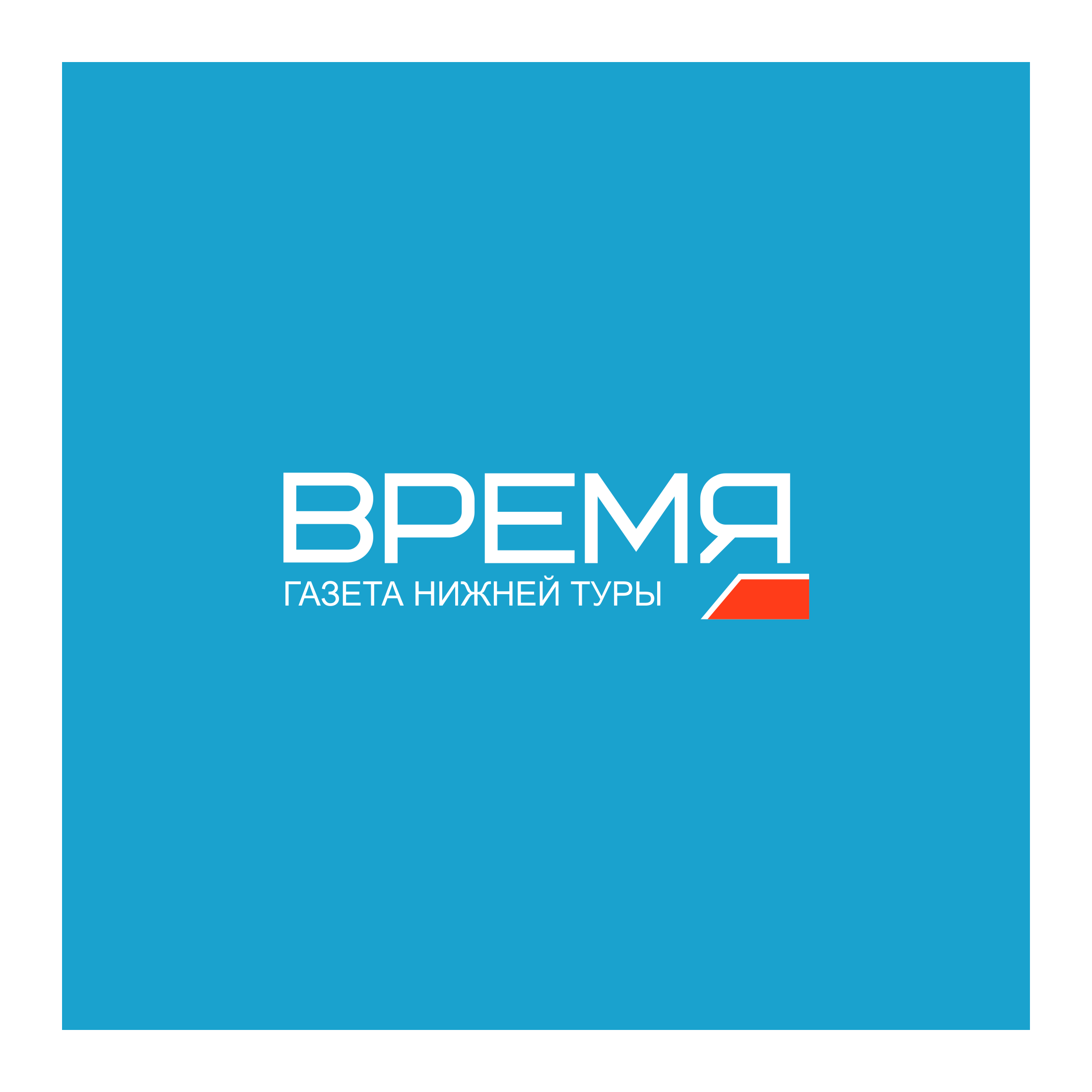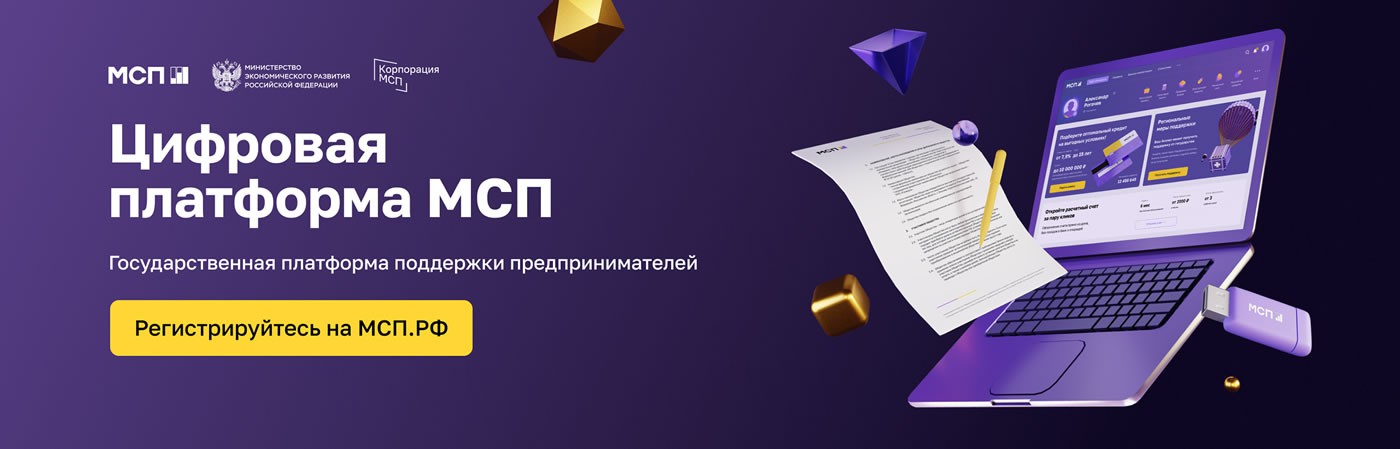Их детство из золотой поры вычеркнула война. Война заставила их страдать от голода, лишила родительского тепла. Но они выстояли, вынесли на своих хрупких плечах все тяготы и невзгоды. Трудились, растили детей и радовались каждому дню без войны. Сегодня из вереницы прожитых лет они все чаще вспоминают детство. Такое не похожее на детство их сыновей и
внуков.
Мария Елисеевна Сидаш:
- Наша семья жила в Харьковской области. С первых дней войны мы оказались в оккупации. Мужчины ушли в леса и стали партизанами. За порядком в селе следили полицаи. Если кого-то из них убивали, немцы собирали все село и расстреливали каждого седьмого или десятого, это уж как им вздумается. Их не останавливало то, что этим седьмым мог оказаться маленький ребенок. В последствии, чтобы спасти жизнь многим, из строя выходил кто-то из пожилых сельчан и говорил, что это он виновен в смерти полицая.
Один случай я вспоминаю очень часто. Я уже закончила девятый класс. Дома была одна. На руках у меня - маленькая племянница. В хату зашел немец.
Подходит к нам близко-близко и что-то говорит по-своему. Направляет на нас дуло автомата. Племянница еще не умеет говорить, она поднимает ручонку и пытается отвести ствол. Я мысленно молю: «Господи, хоть бы не выстрелил!». Немец достает из кармана то ли сахар, то ли конфетку, сейчас уже не помню, и протягивает малышке. А она угощение не принимает. Тогда он берет ее ручонку, разжимает кулачок, кладет сладость на ладошку, разворачивается и идет вон из хаты. Его угощение племяшка бросает ему в след.
Прасковья Николаевна Кунгина:
- С началом деревенской страды уроки в школе заканчивались, и вместо занятий я спешила в сельсовет, где исполняла обязанности курьера. Из всех колхозов мне нужно было собрать сведения о ходе полевых работ и разнести почту. Завидя меня, люди закрывали калитки. Отец объяснил мне, что они закрывались не от меня, они боялись тех писем, которые я несла. А я хоть и большенькая была – 12 лет, все не могла осознать, что значит – убит, пропал без вести.
Когда в наше село приехали эвакуированные, нам их было жалко. Чем могли, помогали им – молока, картошки давали. Хотя и у самих в закромах не густо было. Каждое утро мама пекла хлеб. Отец делил его на всех, и если какой-то кусочек у него ненароком получался больше, бойкая на язык сестренка, заметив оплошность, тут же пеняла ему.
Хлеб войны был черно-зеленым. Будучи уже студенткой педучилища каждый раз, получая 500 граммов ситного, я думала, что донесу его до общежития и тогда съем, но, отщипывая кусочек за кусочком, домой я приносила только корку.
Зинаида Михайловна Букаринова:
- В нашу деревеньку Бараново Смоленской области немцы пришли в первые дни войны. Мне в ту пору было 8 лет. Мама сотрудничала с партизанами. Один полицейский узнал об этом и привел в наш дом немцев. Братья и сестры сразу убежали из дома, а я почему-то осталась. Немцы начали избивать мать. Один из них взял в руки топор и хотел отрубить ей голову. При виде этого я было бросилась из дома вон, но от страха ноги стали ватными, и я повалилась на пол, как подкошенная. В это время другой немец перехватил руку нападавшего и сдержал удар. Немцы приказали матери явиться на допрос в комендатуру и ушли, забрав все наши сбережения.
На допросе мать призналась, что партизаны приходили к ней, просили хлеб и спички, но она ничего им не дала. А я про себя думала: «Что это мама про хлеб говорит, откуда он у нас взялся?». Нас отпустили. Позже полицай-доносчик сгорел в своем доме.
Надежда Константиновна Лыжина:
- Утром мама открыла сундук, достала праздничное платье и сказала нам, что идет на пристань встречать отца. Мне исполнился годик, когда тятя ушел на войну, и я не могла помнить, как он выглядит. Поэтому все время ожидания я пыталась представить себе, какой он. Тут в дом вбежали старшие сестренки и закричали: «У тяти нет ноги, он идет и опирается на костыли!». Я испугалась и спряталась на печке, но сестры вытащили меня из укрытия. К стыду своему и к великому смущению отца я разревелась. На меня еще долго нагонял страх его вид. Став постарше, я была ему первой помощницей и на рыбалке, и на охоте.
Людмила Ивановна Казакова:
- Когда началась война, мне было 4 года и 7 месяцев. Взрослые пропадали на работе. А мы целыми днями были предоставлены самим себе. Бегали босые, ничего нашим ногам не угрожало: не было ни мусора, ни битого стекла. Помню, в речку забежим, рыба размером с ладонь у ног плавает, тебе хоть и боязно, а все равно в воде бултыхаешься. В праздник мама наряжала меня в платье из марли, чтобы оно держало форму, его крахмалили. Жили мы в Нижней Туре у завода на самой окраине. Я очень боялась волков, их в то время много бегало. Бабушка или дедушка брали в руку колотушку, выходили из избы на улицу, стучали ей, чтобы отпугнуть серых. Женщины вечерами собирались в одном доме и вязали на фронт вещи, а мы – детвора - тихо сидели на печи и сказки слушали. Старшие ребята любили малышей попугать небылицами про страшных черных людей.
Если кто-то получал похоронку, плач поднимался такой, что просто ужас охватывал.
Из архивов музея ИГРТ воспоминания Нины Ивановны Скутиной:
- В школу пошла в 1942 году. Учились писать на старых газетах, а когда они кончились, нас снабдили грифельными досками. По весне для школы собирали колоски и мороженую картошку. Этой похлебкой кормили тех, кто на уроках падал в голодные обмороки. Хлеб по карточкам был похож на кукурузную кашу. Его и резали не ножом, а толстой суровой ниткой и давали по 250 граммов на человека. Родители говорили: «Не ешь, домой неси».
С оккупированных территорий люди бежали на Урал. Помню, у нас поселилась женщина с двумя детьми. Они привезли мешок яблок, это все, что у них осталось из съестного. Они меняли ведро яблок на ведро картошки. Тогда мне казалось просто диким, как можно ароматные сладкие яблоки менять на несладкую картошку.