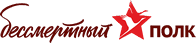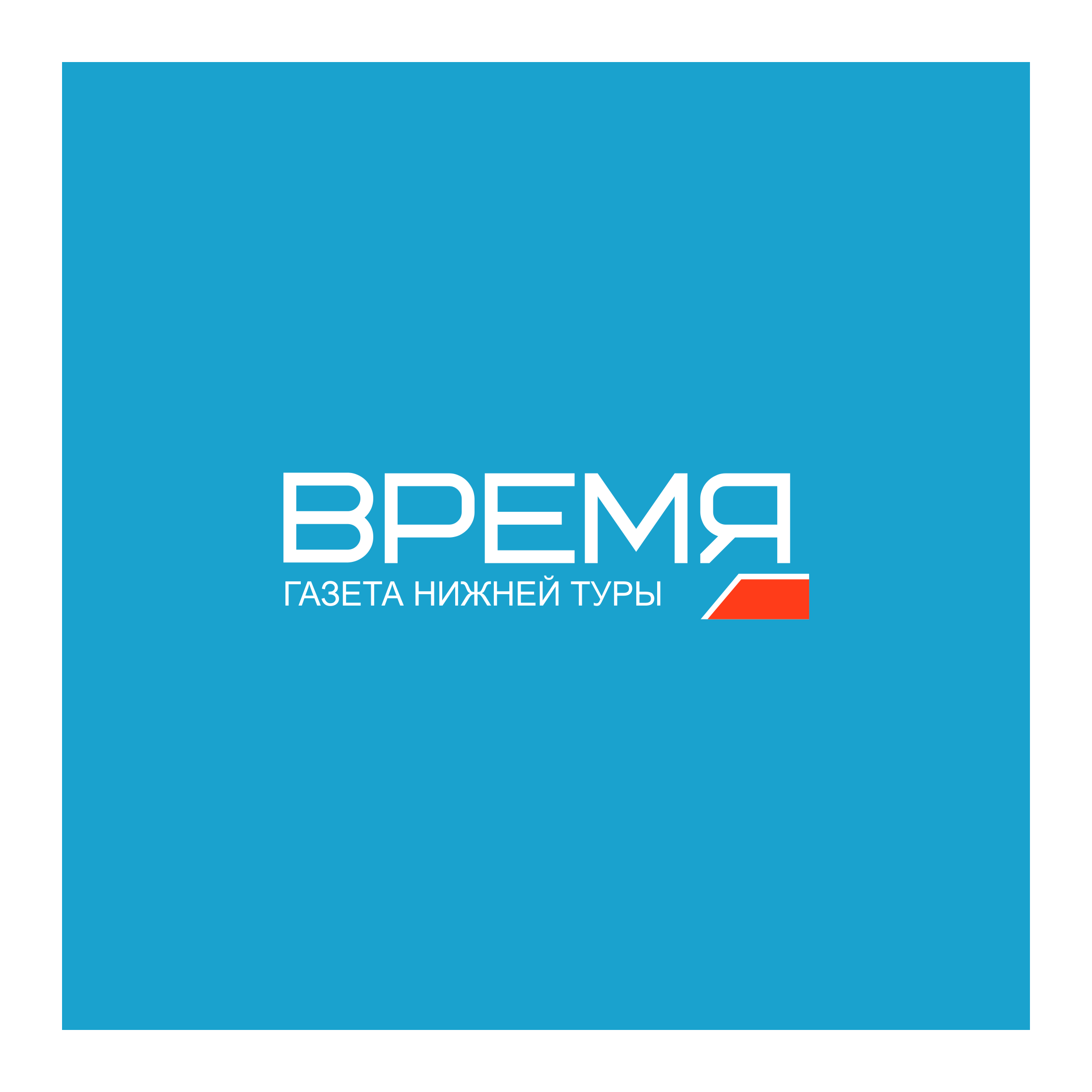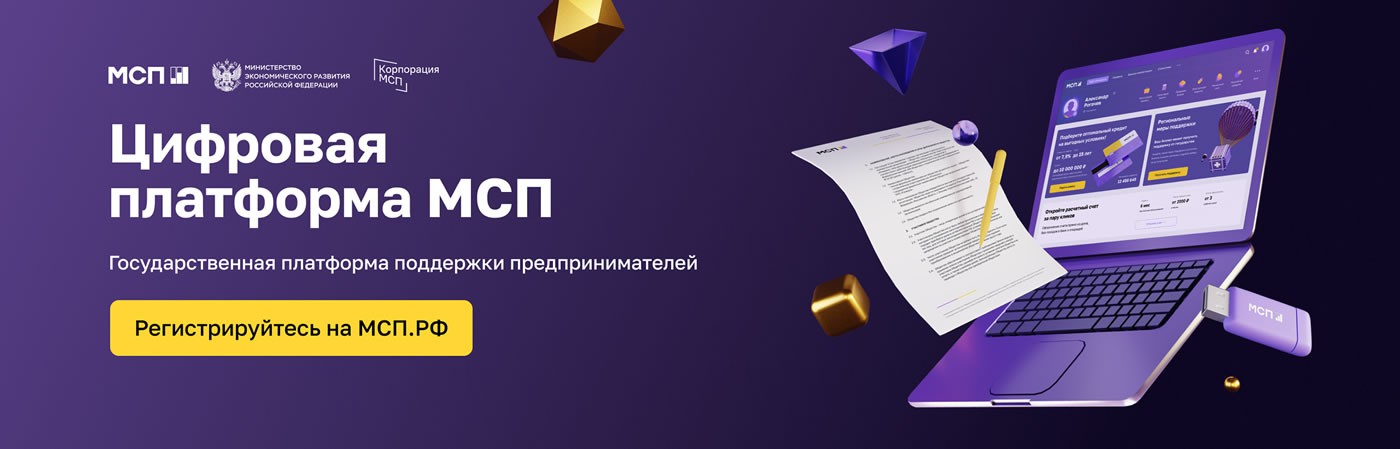Оно билось в груди Леонида Семячкова: педагога, краеведа, поисковика
В начале июня скоропостижно ушел из жизни Леонид Семячков – основатель поисковой работы в Нижней Туре.
Его хорошо знали и любили несколько поколений выпускников нижнетуринского ПЛ-22 и коллег-педагогов. Горожане, увлеченные историей и краеведением, запомнили его лекции и увлекательные экскурсии в краеведческом музее.
В память о Леониде Меркурьевиче мы повторяем материал, опубликованный во «Времени» в 2018 году.
Бородатый романтик
Жена его часто говорит: «Все твои болячки – суставы, сосуды – от этих походов, ночевок в сыром лесу и переутомления». А он философски замечает: «Э, нет. Именно походы и поисковая работа привели меня к заветной мечте – в краеведческий музей…»
Бородатый романтик семидесятых с неугасающей искоркой в умных глазах. Леонид Меркурьевич Семячков для очень многих – верный товарищ и единственный, на годы, друг. И хоть суров в общении, необычайно мягкий и добрый человек, способный искренне и вовремя подставить плечо в трудный момент. Фанат истории, поборник точности фактажа и очень глубокий знаток местного краеведческого материала. И не только.
Кто побывал на его лекции о ком-то из полководцев русской, советской армии или о развитии Исовского прииска, об истории семьи Романовых, тагильских промыслов, железоделательного завода, улиц и домов Нижней Туры, обязательно придет еще, чтобы внимательно вслушиваться в его интересный, литературно и эмоционально озаренный текст, дополненный тщательно подобранными иллюстрациями и воспоминаниями современников. Вслушиваться и получать истинное удовольствие.
Его жизненные вехи
А если о жизненных его вехах, то: сначала – нижнетагильская уникальная школа, где преподавали бывшие фронтовики, а немецкий язык – немки, переселенки с Поволжья, где по-настоящему увлекся историей и археологией, побывал в первой археологической экспедиции под Тагилом, на стоянках вогулов, на Медведь-Камне, прошел по уральской тропе Ермака. Потом – пединститут, филфак, заочно истфак – к мечте шел по наитию, но упорно. Женитьба на однокурснице Майе, и вся дальнейшая жизнь – рука об руку с ней – и в профессии, и в семье.
Кстати, о профессии: педагогике отдал 40 с лишним лет. И только к концу трудовой деятельности случилось прийти работать в городской краеведческий музей.
– Он пришел и принес с собой громадный жизненный опыт, обширнейшие знания во многих областях, свою ненавязчивую и такую продуктивную (на деле) коммуникабельность в общении с детьми, подростками особенно и взрослыми людьми, которая так нужна нам, сотрудникам музея, организовывающим постоянно то выставки, то встречи, то лекции и показы, – говорит директор музея Ирина Матвеева. – Он открыл свои радушные объятия историка и краеведа каждому пытливому посетителю, радуясь всякий раз, как ребенок, что вот еще есть увлеченные души!
В молодости они учительствовали с женой в Синегорске, приехали работать в Нижнюю Туру. Тогда здесь только открылось новое профессионально-техническое училище, нужны были педкадры. «И мы с женой за милую душу поехали из нашей тагильской «дымовухи» да в туринский зеленый рай!»
Походы и рождение «Горизонта»
Признается: «Чтобы завоевать авторитет у пацанов, я увлек их сначала туризмом, спортом, водными сплавами по Чусовой. Но потом… В глазах так и стояла археологическая экспедиция Уральского госуниверситета, в которую попал еще студентом случайно, побывал в настоящем каменном веке, на саргатских курганах, в районе Горбуновых торфяников. И решил тоже организовать плановые походы».
Сначала облазили Шайтан, принесли в музей училища (тогда он только открылся) керамику и бытовые предметы с капища вогулов…
– А вот по следам Великой Отечественной на большой уже земле, – вспоминает Леонид Меркурьевич, – моих ребят повел в первый поход мой друг Костя Чеканов, только что вернувшийся из Афгана. Я не мог, защищал диплом, помог им только подготовиться. Поход вышел знатным. Группа была большая, десять человек. И в те годы нам очень хорошо помогал в оснащении экспедиций наш замечательный спонсор – тогдашний директор ОАО «Тюмень трансгаз Югорск» Павел Иванович Завальный. Ребята вернулись, переполненные впечатлениями, ходили под Смоленск, где земля была буквально утыкана осколками и снарядами, и все, можно сказать, лежало на поверхности.
В те годы и родился поисковый отряд «Горизонт», влившийся во всесоюзное, а позднее всероссийское патриотическое молодежное движение «Вахта памяти», а в области – в движение «Возвращение». Сейчас «Горизонтом» командует Анастасия Малых, ученица и последовательница Семячкова.
Непрямой патриотизм
Надо сказать, никогда напрямую Семячков не занимался патриотическим воспитанием своих подопечных. Делали свое дело пот, заливающий лицо, зубовный скрежет от трудностей походов, страшные находки костей и черепов, могилы мирных жителей, расстрелянных немцами, скинутых в яму повально и пересыпанные известью, да еще – тихие, мудрые посиделки у вечернего костра, когда приходили на огонек местные старики, рассказывали о боях, о войне, о жизни в оккупации и героизме солдат и партизан. Это были вечера единения душ и сердец, наполняющихся гордостью за тех, кто полег вот здесь, за этими холмами, в этом болоте, чтобы в один из вечеров, через много лет вот так вот мирно загорелся в поле костер и собрал тех, кто их вспомнил…
– За все годы мы «подняли» останки более 3 тысяч солдат и офицеров, но установили лишь 15 имен, – говорит Леонид Меркурьевич. – Очень многие медальоны были безымянными, на иных невозможно было разобрать даже первые буквы. Нашли как-то десять медальонных гильз с прекрасно сохранившимися записками, но они не были заполнены. Так стало обидно! Но, видно, не было у солдатиков свободного времени, чтобы их подписать…
«Простите нас, ребятки»
Он родом из первого послевоенного поколения, но его сердце словно опалено этой войной. Нет более глубоко волнующей его темы, чем Великая Отечественная. И нет горше мыслей, чем мысли про то, что из-за нашей безалаберности упущен огромный исторический материал, уничтожены тысячи солдатских имен, которые могли бы лечь на страницы истории страны.
Когда служил в армии, в войсках гражданской обороны под Харьковом, видел, как пиротехники (а по сути – минеры) подрывали братские могилы и другие, обнаруженные вокруг города стихийные захоронения, сравнивали с землей многочисленные человеческие кости. Таков был приказ командования. Такой была недальновидная, жестокая директива. Прошли годы, многое изменилось, на местах боев появились обелиски, зажегся Вечный огонь. Но утерянного уже не вернуть.
– Простите нас, ребятки! – говорит всякий раз Леонид Меркурьевич, принося к обелиску цветы. – Не всех вас мы знаем по именам, но память об этой кровавой войне будет жить в нас еще долгие и долгие годы.